Уланова возмутилась, и заявила Фурцевой, что такой протокол она не подпишет, хоть расстреляйте…
Её именем названы улицы, тюльпаны, астероиды. Её профиль остался на монетах, барельефах и мемориальных досках, её летящая фигура запечатлена в бронзе, в гипсе, и даже в шоколаде. В ХХ веке на Земном шаре было не так уж много русских, кто, бесспорно признан и обожаем всем миром. Одним из них был Юрий Гагарин, первый в космосе, другой – Галина Уланова, благодаря которой СССР в области балета опередил всю планету. Все вокруг относились к ней, как к божеству, она казалась нереальной, словно нарисованной на полупрозрачной ткани, и, стоит подуть ветру, и она растворится, как без следа растворяется в воздухе лёгкие облака. Она мало говорила, ещё реже улыбалась. Как-то, прервав молчание, она призналась, что совсем не любит балета.

Великие артисты будущим поколениям оставляют, зачастую, не так уж много: письма, фотографии, если повезло родиться в ХХ веке – фильмы и телепередачи, которые ощущения современников, видевших артиста вживую, их восторги и поклонение, передать не могут. С годами их образы размываются, обрастают мифами, превращаются в легенды. Галина Уланова никогда не заботилась об укреплении своего Я в культуре, не занималась созданием, как бы сейчас сказали, положительного имиджа на века. В памяти тех, кто её видел, она осталась несравненной и загадочной. Она до последнего продолжала жить так, будто по-прежнему тысячи глаз видят её одну, с внутренним ощущением, что она всё время на виду, и по-прежнему сохраняла свой вес – 49 кг. Она всегда носила перчатки, и когда их снимала, люди не могли оторвать глаз от её плавных аристократических движений её кистей и пальцев. Она всегда была погружена в свой таинственный мир, и за глаза Уланову называли Снежной королевой. Любила она далеко не всех, далеко не всех привечала, её даже немного побаивались.
Она родилась при Николае II, жила при Ленине, Сталине, пережила войну, потом были Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин, дважды менялся общественный и экономический строй. Она никогда не стремилась быть ближе к власти, она не была конформисткой, не состояла в партии, но её уважала, и даже любила любая власть. В 1998-м незадолго до своего ухода Уланова уничтожила весь свой личный архив – никто не должен был знать то, что знала только она.
Детство
Галина появилась на свет 26 декабря 1909 года в Санкт-Петербурге в балетной семье. Отец, Сергей Николаевич, танцовщик Мариинского театра, был главным балетмейстером театра Мариуса Петипа, мать, Мария Фёдоровна Романова, тоже танцевала в «Маринке», позже стала балетным педагогом. Другой жизни, кроме балета, родители не знали, они решили, что их худенькая и слабенькая дочь станет балериной, и девяти лет от роду отвели её в хореографическое училище на улицу Зодчего Росси. Занятия в классе вела её мама, к дочери относилась подчёркнуто нейтрально, даже отстранённо. После занятий мама ушла домой, а Галя осталась в интернате, и просто возненавидела балет. В первое же утро она сбежала, но её вернули. Ни слёзы, ни мольбы забрать её домой, ни даже голодовки и голодные обмороки родителей не разжалобили – они были непреклонны.
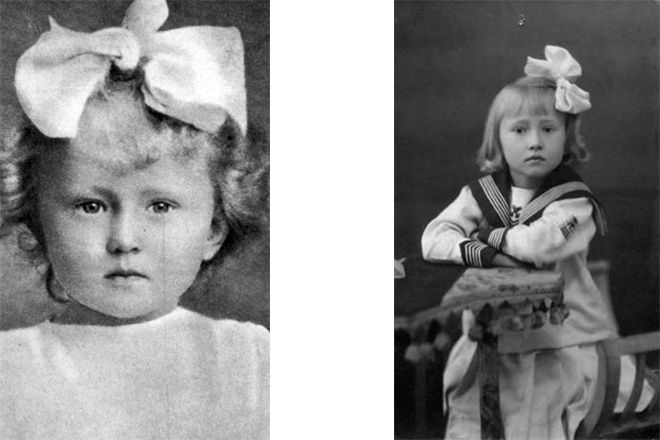
В училище юная Галя особыми талантами не блистала, а балетная муштра её пугала. И всё же, на неё обратили внимание, потому что рядом с другими девочками, которые старались понравиться, Галя делала всё, чтобы остаться незамеченной, и танцевала будто бы только для себя. Педагоги говорили, что Уланова вообще не видит никого вокруг. За самый не сложный предмет – пантомиму она получила кол. Учащиеся часто бегали в бывшую «Александринку» и в филармонию – театр и просто музыка Галину привлекали больше, чем балет, а домой ходили только спать.
Последние годы педагогом Улановой в училище была Агриппина Ваганова, которая сразу поняла, что её ученица не виртуоз в технике, и не тайфун страстей в эмоциях, а что-то совсем иное, хрупкое, не земное. (О том, что её педагогом была Ваганова, Уланова вспоминать не любила, и всегда говорила, что всему, что она умеет, её научила мама). Галина была невероятно стеснительна, и эту черту никак не могла в себе преодолеть: чтобы выступать на уроках ей всякий раз приходилось себя ломать, во время репетиции она даже не могла посмотреть в глаза партнёру. Мама из-за кулис шептала: «Галя! Улыбнись!» Про Уланову говорили, что она не без таланта, но суха, холодна, зажата и закрыта. Но у неё был стальной характер и несгибаемая воля – к себе она была безжалостна.
Её заметили и оценили
В 17 лет Уланова едва не вышла замуж за концертмейстера училища Исаака Меликовского, который был намного её старше, но тут мама сказала, как отрезала: или балет, или семья. Галина рассталась с Исааком, детей у неё никогда не было – был только балет. Потом был роман с дирижёром Евгением Дубровским, который, как и Меликовский, годился Галине в отцы.

16 мая 1928 года на сцене Мариинского театра, который в те годы был просто ленинградским театром оперы и балета, Уланова танцевала свой выпускной спектакль – Шопениану. Её заметили, оценили, и тут же пригласили в этот театр солисткой. Уже по первым спектаклям было видно, что в балете появилась новая звезда с мощным лирическим началом. Уланова жила на сцене только чувствами, она растворялась в Одетте, в Жизели, в Джульетте, и это было подлинное откровение, простота и естественность её танца обезоруживали. Она никогда не заканчивала балетную фразу точкой или восклицательным знаком. У неё в конце всегда было многоточие, дававшее пищу для размышлений. Её первым партнёром на сцене был ровесник Константин Сергеев, будущий Герой Социалистического Труда, четырежды сталинский лауреат, Народный артист СССР.
«Жизель»
На Уланову было поставлено не так много балетов, но они остались в истории: «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, которая стала её визитной карточкой, и, конечно, «Жизель» Адольфа-Шарля Адана. Когда ей дали танцевать Жизель, она долго проигрывала внутренне, как бы она сама вела себя, если бы её предали, а потом блестяще, как драматическая актриса сыграла умопомешательство.
Джульетта
Улановой было 28, когда летом 1936-го на Селигере она познакомилась с художником и искусствоведом Николаем Радловым – человеком очень эрудированным и увлечённым, избалованным любовью своих учеников. Он был старше Улановой на 20 лет, и был женат. Галина любила уплывать одна на байдарке, брала с собой патефон и пластинки, слушала музыку, наслаждалась природой и уединением, но Николай бесцеремонно вторгся в её одиночество, и она по-настоящему влюбилась. Для Радлова это был курортный роман, а для Улановой – настоящий. Во многом, благодаря этой трагической для неё любви родилась её Джульетта: премьера спектакля на музыку Сергея Прокофьева состоялась в 1940-м, когда Уланова была уже Народной артисткой РСФСР. Радлова она больше никогда не видела: в 1942-м в Москве он погиб при бомбёжке.
Эвакуация
В 1941-м Уланова получила Сталинскую премию I степени и вышла замуж за актёра и режиссёра театра им. Моссовета Юрия Завадского, который был старше её на 16 лет. Ради Улановой Завадский бросил Веру Марецкую, и этот недолгий союз стал единственным официальным браком Улановой. Мариинский театр уехал в эвакуацию в Молотов, а Завадский со своим театром – в Казахстан, и Уланова поехала с ним, танцевала в театре в Алма-Ате, давала шефские концерты в госпиталях, и потом получала мешки писем от тех, кто видел эти выступления, и не мог их забыть. В 1943 году Уланова стала Народной артисткой Казахской ССР.

Большой театр
В Москву Уланова переехала 1944-м, когда партийные и советские власти буквально призвали её в столицу – одна из первых балерин страны не имела права жить в Ленинграде, она была нужна в первом театре страны. Её согласия никто не спрашивал. Большой театр стал местом её службы, домом, семьёй, ареной славы и полем битвы. С Завадским они стали жить на разных квартирах – Улановой нужна была сцена, а ему – семья и дети. Расстались они друзьями, и частенько хаживали друг к другу на чай.

Ей было уже 39, когда судьба подарила ей яркую и трагическую встречу с актёром и режиссёром театра им. Ленинского Комсомола Иваном Берсеневым, который был старше на 16 лет. Он был давно и счастливо женат на актрисе Софье Гиацинтовой, но ради Улановой ушёл из семьи. Вместе они прожили всего два года, до смерти Берсенева. В 1952-м, оставшись одна, Уланова переехала в роскошную 4-хкомнатную квартиру на 6-м этаже знаменитой сталинской высотки на Котельнической набережной, из окна которой Кремль был как на ладони.
В 1946-м за «Золушку» и в 1947-м – за «Ромео и Джульетту» Уланова получила Сталинские премии I степени, в 1950-м за Тао-Хоа в «Красном маке» Рейнгольда Глиэра – Сталинскую премию II степени, в 1951-м она стала Народной артисткой СССР.
Англия
В 1956 году Большой театр впервые поехал в Англию. Ажиотаж вокруг гастролей был невероятный: чтобы купить билет, лондонцы занимали очередь за три дня до открытия касс в Theatre Royal Covent Garden, и дежурили ночи напролёт. Очередь растянулась на целый квартал. Зал вмещает 2,5 тыс. человек, но в продажу поступила всего сотня билетов, остальные зрители пришли по приглашениям: королевская семья, палата лордов, от бриллиантов на дамах слепило глаза.

Гастроли открылись спектаклем «Ромео и Джульетта», в котором 46-летняя Уланова танцевала 14-летнюю Джульетту. Три первых акта прошли при полной тишине, никаких аплодисментов, и советские артисты, привыкшие к совсем другим эмоциям, приуныли: это был грандиозный провал. Взрыв произошёл после окончания спектакля. Зрители, понимая, что больше Уланову никогда не увидят, долго не отпускали её. Все забыли, что между ней и Джульеттой разница 32 года. Когда через пару дней Уланова танцевала Жизель, в королевский театр пожаловала королева Елизавета II. По её распоряжению спектакль с Улановой сняли на плёнку, за что ей огромное спасибо. Критика писала, что благодаря Улановой дрогнул железный занавес. Через год после гастролей на Туманном Альбионе Уланова получила Ленинскую премию. Учиться актёрскому мастерству на спектакли Улановой приводили студентов Школы-студии МХАТ, театральных училищ им. Щепкина и им. Щукина, ГИТИСа и даже ВГИКа.
Заявила, что такой протокол она не подпишет
Уланова была человеком твёрдым, замкнутым, закрытым, всегда держалась очень независимо. Она была членом комитета по Ленинским премиям, и когда в 1961-м без премии оставили армянского художника Мартироса Сарьяна, Уланова написала письмо самому Первому секретарю ЦК Никите Хрущеву, и добилась присуждения Сарьяну премии. В 1969-м на 1-м Международном конкурсе артистов балета в Москве Уланова была председателем жюри. С гран-при особых вопросов не было: там по всем статьям лидировал Виктор Саркисьян, и мнение членов жюри было единодушным. А дальше на первое место выходили французы Франческа Зюмбо и Патрис Барт. Министр культуры Екатерина Фурцева сказала Улановой, что «золото» должны получить советские танцовщики, а «серебро» и «бронзу» – на усмотрение Галины Сергеевны. Уланова возмутилась, и заявила, что такой протокол она не подпишет, хоть расстреляйте. Минкульт проблему решил просто: вместо двух дали 6 золотых медалей, одну из которых получил будущий невозвращенец Михаил Барышников. Когда Уланова узнала, что из-за нехватки финансирования закрывается музей великой русской балерины Анны Павловой, она предложила продать все свои драгоценности, лишь бы музей продолжал работать.

29 декабря 1960 года Галина Уланова вышла на сцену Большого театра в том же спектакле, с которого начинался её триумф 32 года назад в Мариинском театре – в Шопениане. Когда после традиционных оваций опустился занавес, она вышла к зрителям, и объявила, что завершает карьеру балерины. Ей был 51 год, и до 1962-го она ещё выходила в отдельных спектаклях, неизменно собирая полные залы.

Каждая ученица – это судьба в балете
Выдающийся танцовщик и педагог Леонид Лавровский сказал Улановой, что она не может просто так уйти из театра, и предложил на выбор или любую приму, или любую ученицу. У Галины Сергеевны появились ученики, и теперь уже их судьба определила всю её дальнейшую жизнь. Уланова никогда не вела класс, она сама выбирала учеников, их никогда не было много, и каждая её ученица – это судьба в балете. Самой первой была Екатерина Максимова: Уланова сказала, что работать будет только с молодёжью, взяла Катю, и сделала их пару с Владимиром Васильевым уникальной. Потом были ставшие народными артистками СССР Людмила Семеняка и Марина Кондратьева. Став преподавателем, Уланова никогда не навязывала своего видения образа, она показывала.
Бельгийский балет на гастролях в СССР
В середине 70-х Уланову пригласили в Бельгию. Вернувшись, она сказала руководству Большого театра, что не мешало бы пригласить бельгийский балет на гастроли в СССР. С ней согласились, в 1978-м месте со своей труппой «Ballet du XXe Siècle» в Москву приехал выдающийся балетмейстер Морис Бежар, и гастроли прошли с огромным успехом. Об Улановой Бежар сказал: «Я полагаю, что Уланова – это тайна. Когда я смотрю на неё, я всегда думаю о живописи Вермеера, словно растворяющейся в потаённом сновидении – ясном, читаемом, и всё-таки скрытом. Мне кажется, что её секрет – в понимании того, как сделать внутренние чувства зримыми. На сцене она жила глубокой наполненной жизнью и обладала не только танцевальной техникой, но и необыкновенной душевностью. Она из тех, кто раскрывается крайне медленно. В её танце нет того, что сразу бросается в глаза, но есть глубокая истина, которая постепенно входит в вас и открывает подлинную тайну искусства».

В 1974-м, не танцуя уже 12 лет, Уланова получила первую Звезду Героя соцтруда, спустя 6 лет – вторую.
Выбрала одиночество
Кроме учеников и театра, в котором она жила уже победами и проблемами своих воспитанников, у неё, по сути, больше ничего и не было. Роман с главным художником Большого театра Вадимом Рындиным, длившийся несколько лет, закончился. Уланова сама выбрала одиночество, и долгие годы дома её ждал только любимый пудель Большек, названный в честь Большого театра – подарок дамы из Лондона, который в Москву доставили на специальном частном самолёте. Он прожил с Улановой 16 лет. Некоторое время в квартире Улановой жила журналистка «Комсомолки» Татьяна Агафонова, которую хозяйка представляла всем, как свою приёмную дочь. Смерть Татьяны в 1994 году стала для Улановой настоящей трагедией, и после этого она осталась совсем одна. В конце жизни приезжать в театр так часто, как раньше, Уланова не могла, и, спасаясь от одиночества, подолгу разговаривала по телефону, хотя в жизни была немногословна.

В начале 1998 года у Улановой почти подряд случилось два инсульта, и 21 марта она умерла в возрасте 88 лет. Памятник ей, открытый на Новодевичьем кладбище в 2001 году, создавали бывший танцовщик скульптор Фёдор Фивейский и Александр Тихонов. Монумент имеет форму паруса, и барельеф великой балерины словно выдут ветром.

17 декабря 2004 года в квартире Галины Улановой на Котельнической набережной открылся музей. Но это не музей её лично, это музей всего русского балета ХХ века – именно этого и хотела Галина Сергеевна.
автор: Николай Кузнецов




